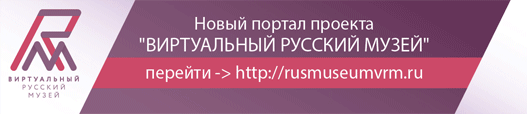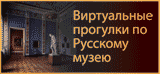Серов – больше, чем портрет
«У меня мало принципов, но зато я их крепко придерживаюсь»1,– этический смысл этого серовского высказывания современникам казался очевидным: «ему была незнакома сделка с совестью»2.
О его моральной безупречности – «я неразвратим»3,– «катоновской» честности очень сходно высказывались И.Э.Грабарь и В.Я.Брюсов, А.Н.Бенуа и И.Е.Репин, Н.П.Ульянов и К.С.Петров-Водкин. «Стихия Серова была правда, правдивость. В этом фанатическом культе правды он мог доходить до частичных несправедливостей, и ему случалось даже оскорблять тех, кто менее всего заслуживал этого»4,– писал А.Н.Бенуа, вероятно, имея в виду болезненно-резкий разрыв с Ф.И.Шаляпиным.
«Художником-моралистом»5 назвал Серова Андрей Белый. К.А.Коровин пошел еще дальше: «И, может быть, в нем был не столько художник, как ни велик он был в своем искусстве, сколько искатель истины»6. Почти как у Е.А.Баратынского: «Опрокинь же свой треножник! Ты избранник, не художник!» В этих словах нет ничего уничижительного – моралистом А.А.Ахматова называла Пушкина. Скорее, это попытка уловить тип творчества, найти точку схода человеческого и художнического начал. Эту точку и нарекли правдой. «Что же сказать о художнике, о творениях Серова? Почти то же, что и о человеке. Основная черта их – благородство, правдолюбие, искренность»7,– это А.Н.Бенуа. Ему вторит И.Э.Грабарь: «Две основные черты характера, которыми он резко отличался от всех окружающих, объясняют все его искусство: правдивость и любовь к простоте»8.
Если говорить о портретном жанре, то в понятие «правда» вкладывался особый смысл: это скрытая, скрываемая сущность, извлекаемая художником на свет, то, что сформулировал В.Я.Брюсов: «Портреты Серова срывают маски, которые люди надевают на себя, и обличают сокровенный смысл лица <…> Портреты Серова почти всегда – суд над современниками, тем более страшный, что мастерство художника делает этот суд безапелляционным»9.
Параллельно складывалось и прямо противоположное мнение: характеристики Серова не объективны. Уже в 1890-е годы, а затем все чаще и чаще по отношению к его портретам звучали слова «преувеличение», «утрировка», «карикатура». «Он своим наблюдательным и трезвым взглядом видел в каждом человеке, а особенно в том, которого он в данный момент изображал, карикатуру»10,– вспоминала М.К.Морозова, жена М.А.Морозова, серовский портрет которого, по словам И.Э.Грабаря, был выполнен в «обличительном настроении высокого порядка». Муж М.К.Тенишевой по поводу ее портрета сказал, что «предпочитает видеть на своих стенах олеографию, нежели такие карикатуры»11.
Исходили подобные оценки не только со стороны моделей, чуть ли не единодушных в том, что «писаться у Серова опасно»12, но и от художников и критиков, чрезвычайно к нему расположенных. А.Н.Бенуа, отдавая должное художественным достоинствам портрета своей жены, заметил, что Серов «впал в ошибку и создал некую почти карикатуру», добавляя: «Чрезмерное подчеркивание было ему вообще свойственно»13. М.В.Нестеров «искренне не понимал, как мог Серов-портретист творчески общаться со своей натурой в иронии, в презрении, в неприязни к ней»; «как Валентин Александрович мог так писать Гиршмана или адвоката с женой. Он издевался над ними кистью»14.
А.М.Эфрос, говоря о портрете И.А.Морозова>, делает обобщающий вывод: «Взрослого человека он любил тиранить»; «то, что он изображал на портрете, почти всегда бывало не таким, каким человек был на самом деле»15. Легче всего просто не согласиться с парадоксальной и словно созданной для опровержения точкой зрения критика. Как бы ни относился Серов к своим моделям, с большей или меньшей симпатией, не может быть и речи о каком-либо издевательстве. «Из презрения» не пишутся ни стихотворения, ни портреты. Искусство живет прозрением. Но столь же очевидно, что в портретах Серова присутствует нечто, позволяющее одним авторам видеть в них высшую истину, другим – искажение, произвол.
Правы (или неправы, что в данном случае одно и то же) обе стороны. Чужое лицо, душевный мир «другого» были бесконечно интересны для Серова, не заслоняясь ни стилистическими, ни логическими построениями (во всяком случае, он к этому стремился). В самых одухотворенных его образах есть ноты скепсиса, усталости, в самых беспощадных – сочувствия, понимания того, как нелегко бывает сохранить человеческое достоинство. И лишь после удовлетворения базовых «психоаналитических» потребностей портрета, обеспечивающих его жанровое выживание и безопасность,– сходства, характера, субординирующей роли лица, лишь на фоне многогранного объективного изображения воплощается серовская субъективная концепция как основная партия в живописной полифонии, как внутренний голос портрета.
То, что задевало портретируемых и возбуждало критиков, мало его волновало. Как ни умолял В.О.Гиршман изменить в его портрете жест, Серов стоял на своем – «я ведь злой». З.Н.Юсуповой он был очарован – «славная княгиня». Портрет – другое дело: «Вот приедут господа, посмотрят, что мы написали – уверен, придется не по вкусу – ну, что делать – мы ведь тоже немножко упрямы»16. «Сходство? Похоже? Конечно, это нужно, это необходимо, но этого еще недостаточно. Художество нужно, да, да, художество»17. Серов влюбляется не в Верушу Мамонтову, а в «девочку с персиками», не в Г.Л.Гиршман, а в «женщину перед зеркалом», влюбляется в «глазок Морозовой», «модную картинку» – С.М.Боткину, в провинциальную скучность четы Грузенберг, «нос Гиршмана», отшлифованную светскость Орловой,– во все то, что давало ему возможность воплотить свои сущностные представления об искусстве.
«А что, если бы вместо того, чтобы пытаться нарисовать человека, художник решился бы нарисовать свою идею, схему этого человека? Тогда картина была бы самой правдой»18,– напишет Х.Ортега через много лет после портретов М.А.Морозова и В.О.Гиршмана, А.В.Касьянова и В.М.Голицына, А.В.Цетлин и О.К.Орловой, по поводу которых Серов сказал: «Я, внимательно вглядевшись в человека, каждый раз увлекаюсь, пожалуй, даже вдохновляюсь, но не самим лицом индивидуума, которое часто бывает пошлым, а той характеристикой, которую из него можно сделать»19.
Серовская концепция, идея-характеристика не навязывается, не артикулируется – она просто существует, отделившаяся и от художника, и от модели. Существует как самостоятельная целостность, гештальт, поднимающийся над привычной и малопродуктивной субъектно-объектной оппозицией: правда модели и правда художника. Существует как интеллектуально-пластическая антиномия. Если принять постулат П.А.Флоренского: «Истина есть антиномия и не может не быть таковою»20,– то серовские портреты, безусловно, являются истиной. И полярность в их оценке обуславливается индивидуальной ракурсностью восприятия каждой из самоценных портретных составляющих – физиономических, характеристических, художественных.
«Художество» Серова насквозь антиномично. «Одной из самых цельных особей художника-живописца»,– назвал его Репин. Но он же замечал, что Серов «часто капризно, как неукротимый конь, дерзко до грубости выбивался к свободе личного вкуса и из страха банальности делал нарочито неуклюжие, аляповатые мазки – широко и неожиданно резко, без всякой логики»21. «Здесь тайна есть»,– как говорил В.С.Соловьев.
И те немногие, кто ощутил эту тайну, предпочитали, подобно Вс.Дмитриеву, лишь обозначать ее, не вороша, не тревожа, не исследуя «заколдованный клад»22] его искусствопонимания, хранящиеся там сокровища. «Искусство Серова подобно редкому драгоценному камню, чем больше вглядываешься в него, тем глубже он затягивает вас в глубину своего очарования»23,– эти репинские слова и по смыслу, и по интонации неожиданно перекликаются со словами В.Я.Брюсова: «Пушкин кажется понятным, как в кристальной прозрачной воде кажется близким дно на безмерной глубине»24.
Прозрачность и глубина, отличающие эстетику «Девочки с персиками» (1887), вызывают то особое чувство, щемящее и восторженное, перед которым отступают и делаются как будто ненужными и придирчивый взгляд критика, и беспристрастный – историка. Что значат они перед ощущением чуда; ощущением, пронизывающим тебя, словно потоком света,– света ли, излучаемого обликом девочки, спокойно глядящей тебе в глаза; или света комнаты, где все дышит воспоминанием о детстве, чистотой, счастьем; а может быть светом самой живописи – той счастливой гармонии розового, серого, золотистого, которая сама по себе вселяет в душу радость.
«Девушка, освещенная солнцем» и «Аделаида Симонович», оставшаяся в тени своих более удачливых третьяковских «сестер», но не уступающая им ни по обаянию образа юности, ни по сверкающей цветотональности,– справедливо рассматриваются в системе импрессионизма, одним из творцов которого был Серов, и адекватно воплощают основные импрессионистические идеи. Генезис «Девочки с персиками» сложнее. Серов думает и о свежести, «той особой свежести, которую всегда чувствуешь в натуре», и о «свежести живописи при полной законченности – вот как у старых мастеров»25. «Эрмитаж – вот, что важно для всех нас»26,– это серовское кредо. Сезанн – «Пуссен импрессионизма», как назвал его М.Дени, стремился в общении с природой оживить Пуссена. Серов оживлял Караваджо, подбирался к эрмитажному «Лютнисту». Антиномия «музей – природа» отныне будет главной серовской проблемой.
Эта проблема определяет эволюцию и его пейзажного творчества: «Я ведь все-таки немного и пейзажист»27,– от «Осеннего вечера. Домотканово» (1886) до «Купания лошади» (1905). Его пейзажи не обладают очевидным почти сентиментальным лиризмом, который привлекает в работах А.К.Саврасова и И.И.Левитана. Они строги и не торопятся открыться зрителю. Контакт с ними затруднен – необходимо вчувствование и в изображаемый мотив, и в его пластическое воплощение. Эстетические доминанты приглушены, слиты с жизненной первоосновой до нераздельности: «По своей прямо классической простоте, по непосредственности впечатления, по искренности такие картины должны встать рядом с лучшими произведениями старых голландцев и барбизонцев»28.
Пленерно-импрессионистические корни серовской пейзажности несомненны. Но, как одного из персонажей У.Эко, его страшит поспешность. Любуясь малыми голландцами, Серов пишет: «Да, но что всего занимательнее, так это то, что ты видишь на картине, ты видишь на улице или за городом. Удивляешься, как умели голландцы передавать все, что видели»29. И к пейзажам, и к портретам можно отнести слова, сказанные им в 1899 году: «Как хорошо, и как хорошо именно то, что и близко, и далеко видно такое количество подробностей, одинаково прекрасных, а вот мы не умеем этого делать, а следовало бы за все лето написать бы всего один этюд»30.
В «Октябре» и «Старой бане в Домотканово», в «Бабе в телеге» и «Зимой» движение света замедляется, все видится ясно и отстраненно. В тональной мелодии, пластических паузах, замираниях каждый элемент обретает себя, входит в систему соответствий, визуальных и ассоциативных связей: «Но жизнь, как тишина осенняя,– подробна». Как легкое свечение вечности возникают «Дети» (1899) – две нахохлившиеся детские фигурки в пленительных повторах пропорций, ритмов, красок, одухотворяемые природой и одушевляющие ее.
Портреты Серова, кроме «Ермоловой», не всплывают в памяти, подобно портретам М.А.Врубеля и Б.Д.Григорьева, К.А.Сомова и Н.И.Альтмана, когда мысленно представляешь себе образы нового века. К ним не отнести слова: «Наступило время, когда музыку хотели видеть, а живопись и скульптуру слышать»31. Что же побуждало современников именно его называть первым лицом русского портрета? В.Я.Брюсов, сравнивая творчество Серова, Врубеля и Сомова, заметил, что Сомова можно вообразить автором изысканных новелл, Врубеля – поэтом, Серова – только «господином кисти» и отдал ему предпочтение32, хотя для многих как раз это является недостатком Серова, его культурной пресностью.
Но если альтмановская или григорьевская пластика может показаться облегченной воспитанному на истории искусства глазу, то серовский холст всегда напряжен и самодостаточен. Немного в портретной живописи работ, изысканность которых, при невероятно мощном фактурном темпераменте, дарила бы такое же наслаждение, как портрет З. Н. Юсуповой, погружала бы в такие изощренные периоды разветвленных цветовых мотивов, когда какой-то пустяк – разбросанные по шелку цветы, оборки диванной подушки, лепные узоры стены или рисунок обоев,– все дает повод для безукоризненных, тягучих и одновременно легких живописных фраз, как какая-либо деталь обстановки комнаты госпожи Сван или ее туалета для блестящих каскадов М.Пруста.
Перед благородной серовской палитрой, перед «Орловой» с ее властной утонченностью живописи, блистательным европейским стилем склоняли голову традиционалисты и новаторы, мирискусники и символисты. Озабоченные духовными материями, «тонкими мирами», поисками ключей от тайн, В.Я.Брюсов и А.Белый интуитивно ощутили в серовском мастерстве: «Ты нам подлинно мастер!» – ясновидение. Как будто в миг обретения совершенства, в «пафосе морального творчества» мистическим образом являла себя красота. В обычных лицах портретируемых начинали светиться лики взыскуемой вечности, которой поэтам-символистам так часто недоставало в символистской живописи. Ничего не поделаешь – портрет как культурный феномен постоянно сражается с портретом как представителем живописи, ее жанровой памяти. Здесь нет победителей и побежденных: культура тонизирует жанр, а он позволяет ей блюсти профессиональное достоинство в ожидании очередного культурного витка.
Как хранитель «фаюмской» праосновы портрета, его глубинных тайн и заветов, выступает Серов, продолжая традицию не Репина, а других «призванных» – Рафаэля, Веласкеса, Энгра. Инстинкт портретиста не позволял ему оживлять обычный реалистический холст постимпрессионистическими и кубистическими приемами, чтобы справиться с психологическими и стилистическими «вызовами», как позднее выражался А.Тойнби. Серовский ответ – это не «поиски утраченного времени» и не образ современности, не эхо, а голос, не оттиск философии или поэзии, а утверждение портретной парадигмы, векторного равновесия иерархических художественных смыслов в той жизни и в той живописи, которые ему достались.
Портреты З.Н.Юсуповой (1900—1902), Ф.Ф.Юсупова (на лошади), Ф.Ф.Юсупова (с бульдогом), Н.Ф.Юсупова (все – 1903) являют нам такую отчетливость концепции, такую найденность всех выразительных средств, что возникает недоумение: почему в дальнейшем Серов не ставил задач близкого характера? Столь же неожиданно была прервана линия «отрадных» портретов. Не получит прямого продолжения опыт, приобретенный в «Детях» и портрете великого князя Павла Александровича (1897), портрете М.А.Морозова (1902) и «Ермоловой» (1905), хотя ценность и перспективность открытых в них способов интерпретации модели и подходов к портретной форме казалась очевидной.
Мотивы, которыми руководствовался Серов в своих более или менее плавных переходах и стремительных скачках, носили и имманентно-художественный и психологический характер. При всей уникальности – «художник сам по себе», «вне направлений» – он чутко реагировал на стилистические метаморфозы искусства от реализма до новейших течений. Бенуа был прав, когда заметил, что Серову, как и Левитану, ужасно не идет почтенная и растяжимая кличка «реалист», клише «здоровый реализм» он ненавидел33. Но до последних дней он оставался реалистом в строгом «шиллеровском» определении, то есть говорил на языке объекта. Все-таки его воспитывали П.П.Чистяков и И.Е.Репин.
Не менее глубоко укоренился в серовском искусствопонимании импрессионизм. И хотя «завоевание Испании» – переход от «Девушки, освещенной солнцем» к «музейным» портретам 1890-х годов – Ф.Таманьо и А.Мазини, М.Ф.Морозовой и М.К.Олив – ошеломлял, как парадоксальный возврат от цветного кино к черно-белому, но осуществлялся этот переход все в том же стилевом русле. Движение Серова от «Таманьо» к портрету М.А.Морозова проходило под знаком Веласкеса, который для него, как и для глубоко ценимого им Э.Мане, был не просто «художником из художников», но союзником по вневременному импрессионистическому пафосу. «Импрессионист – это Веласкес»34,– запишет К.А.Коровин слова А.Цорна.
Любовь к Веласкесу Серов пронесет через всю жизнь. «Хорош здесь музей, ну, разумеется, Веласкес… об этом и говорить не стоит»35,– пишет он из Мадрида за год до смерти. И все же, в творческом плане, Веласкес был спутником Серова передвижнической эпохи. Опираясь на него, он освобождался от репинской «правды жизни», открывал для себя иное, более возвышенное понимание искусства, обогащал, подобно Сезанну, реализм-импрессионизм «музейностью» и прощался с ним – уходил к другим берегам. Созданные практически одновременно «Морозов» и «Юсупова»,– это «смена вех», знаки разных миров: этического – передвижников и эстетического – «Мира искусства».
«Юсуповский цикл» своей светлой, изысканной и благородной гаммой, незаметно-уверенным абсолютным рисунком, артистизмом резко отрывается от всего, что ему предшествовало, и дарит нам не менее острое ощущение счастья, захватывает не менее глубоко, нежели прямо обращенная к сердцу «Девочка с персиками». Там возникало душевное сопереживание, здесь ощутимо духовное прикосновение к вечной тайне художественного совершенства.
В стилистическом плане вхождение в «Мир искусства» означало сближение – диалог с культурой модерна. Мирискуснический Серов сожалел «об утраченной им тайне цветистой живописи»36, но вместе с тем приходило будоражащее душу и открывавшее новые горизонты сознание: «Цвет, краски… каждый их видит по своему. Картину можно написать в любом заданном тоне»37. В >a href="/node/4136">«Юсуповой» не передается конкретное освещение – с падающими и скользящими тенями, рефлексами, а достигается впечатление светоносности, проникнутости светом каждого элемента. Тональные отношения сдвигаются в верхний регистр палитры. И знакомая, «абрамцево-домоткановская», валерная гамма проигрывается в суженном интервале – «заданном тоне», так что холст обретает напоминающие об эстетике модерна декоративную уплощенность, изящество, рафинированность.
Но когда смотришь на «юсуповские» холсты, на каллиграфически утонченного, изысканного «Н.Ф.Юсупова», перекликающегося по золотисто-голубым смесям с колоритом «Лошадей на взморье», аристократически безупречного «Юсупова с бульдогом», на создававшиеся параллельно с ними трепетные, пронизанные ветром, наполненные гомоном птиц, топотом копыт, бесшумным полетом борзых дивные темперы-гуаши для кутеповских «Царских охот», на нежно-порывистого «Мику Морозова» и переполненного энергией «Остроухова», то чувствуешь – речь идет о чем-то большем, нежели стилистика. Возникает ощущение широкого дыхания, увлеченности, работы с упоением, легкой душой, без оглядки на любые авторитеты.
Перед нами свободное искусство. Не интересом к античности или петровской эпохе одарили Серова мирискусники, а утверждением созвучных ему ценностей – «подлинности», «красоты», «свободы». Он становится современным художником, выходит из музейных залов в открытое пространство, ищет новые пути, импровизирует. Тени великих предшественников – все того же Веласкеса, Тициана – витают и над тем, что создавалось вокруг 1900 года, но более важным оказывается диалог с Э.Мане и Э.Дега, Дж.Уистлером и Э.Вюйаром, скандинавским и немецким модерном-постимпрессионизмом.
По своей натуре Серов не терпел «ни малейшего избитого места: ни в разговоре, ни в живописи, ни в сочинении, ни в позах своих портретов»38, постоянно терзал себя все новыми и новыми трудностями: «То – да не то»39. Лучше неудача, нежели сколь угодно талантливое скольжение по поверхности, соблазнительная легкость кисти. В связи с постановкой одной из опер В.С.Серовой он пишет: «Мне твой почетный провал дороже дешевого успеха»40. Кажется, что ему было не чуждо представление о том, что каждая идея может существовать лишь в какой-то одной форме. В молодости он рефлексирует: «Картины, да картин – не пишу, хотя какие-то образы и мелькают иногда в душе и в глазах, если можно так сказать. Но когда-то появится форма для них, то есть они в форме»41. И когда эта форма появлялась, Серов в абсолютности результата исчерпывал для себя данную проблему и переходил к постановке следующей – черта реформатора, того, кто призван «расточать, а не копить», ломать и строить заново.
И хотя испытываешь сожаление, что не появилось еще несколько пленерных шедевров или психологических параллелей «Лескову», холстов, исполненных «морозовской» экспрессии или стильной «юсуповской» гармонии,– насколько яснее было бы тогда место Серова в истории искусства – отдаешь должное мастеру, жертвовавшему даже не хорошим ради лучшего, а лучшим ради нового лучшего, неизвестного: «Ну это невозможно, пожалуй, а попробовать – попробуем»42.
Одинокой вершиной серовского творчества стал портрет М.Н.Ермоловой (1905). Он не выводится из «испанского» импрессионизма 1890-х годов, из «юсуповской» пластики: «Ермолова» – знак нового мироощущения, новой художнической идентичности. Тяжелая болезнь, которую Серов перенес зимой 1903 года и Кровавое воскресенье: «То, что пришлось видеть мне из окон Академии художеств 9 января, не забуду никогда»,– резко на него повлияли. Он, как вспоминал А.Н.Бенуа, все чаще и чаще ловил на себе «страшные взоры смерти». А то, что он видел вокруг, вызвало у него отвращение: «Опять весь российский кошмар втиснут в грудь. Тяжело. Руки опускаются как-то, и впереди висит тупая мгла». «Как-то жутко и жить-то на свете, то есть у нас в Рассеи»43.
«Ермолова» автопортретна – Серов воплощает, пластически сублимирует глубоко личный образ идеального художника, выдавившего из себя раба, не идущего на моральные компромиссы, готового молча, не выдавая страданий, встретить любую беду, гордо, не отводя глаз взирающего на не слишком-то совершенный и все теснее сжимающийся вокруг него мир: «Зависеть от царя, зависеть от народа – не все ли нам равно?».
Он вступает «в своего рода постоянную войну с теми, кого он писал», ведет борьбу и с собственными сомнениями: возможно ли «оправданное некогда сочетание двух понятий – портрет и высокое искусство?» Фразу: «Я не портретист. Я – просто художник»,– он произносит с раздражением и горечью44. Здесь один из источников его внутренней драмы, та суровая почва, на которой вырастали и пластический стоицизм «античного цикла», и портретирование последних лет, его новое, рождаемое в муках совершенство. «За портрет Касьянова или Гиршмана я отдал бы все ранние его портреты. В лучших портретах Серова характерное доведено до вершины»45,– восхищался Б.М.Кустодиев.
Меняется облик и интонация даже тех серовских холстов, в которых он, насколько это было для него возможно, возвращался в прошлое. Меняется характер лиризма. «Девочка с персиками», портрет Е.П.Олив, «Ида Рубинштейн» – лирика тонкая, лирика грустная, лирика горькая. С удивлением оглядывается Серов на ранние работы, когда «отрадное» давалось легко, окружало его, было в нем самом. «И самому мне чудно, что это я сделал – до того на меня не похоже»46,– говорит он о «Девушке, освещенной солнцем».
Ощутить значительность чувства неоформившегося, едва зарождающегося, нераскрывшегося или скрываемого, увлечься красотой характера, скорее тонкого, нежели яркого, уловить те черты внешнего облика, которые не допускают не только пережима, но даже определенности и которые, скорее всего, и составляют очарование женственности и детства, почувствовать, что грусть таится где-то совсем рядом с безоблачным счастьем,– было дано Серову от рождения. Но его образы – от «Ляли Симонович» (1880), портретов О.Ф.Трубниковой, «Детей» до портретов С.М.Лукомской (1900) и С.В.Олсуфьевой (1910), М.Н.Акимовой (1908) и М.С.Цетлин (1910) – окрашивались все более минорными созвучиями.
Меняется метод ведения холста. «Каждый портрет для меня целая болезнь»47,– если в период «Девочки с персиками», когда были написаны эти слова, трудно шел сам процесс письма, непосредственной работы кистью, то в последние годы усложняются и профессионально-технические, и концептуальные грани творчества. Серов становится особенно чуток к декоративным свойствам холста, к фактуре. Иногда он «переписывал совершенно законченный портрет на новый холст только потому, что ему не понравилась блестящая поверхность фона»48. Повышается его требовательность к материалам: краскам, кистям, основе – холст, картон, бумага. Масло вытесняется темперой. Вырабатывается своеобразная смешанная техника, близкая темпере,– портрет О.К.Орловой (1911); соединяются темпера и гуашь – «Похищение Европы» (1910); пастель и темпера – «Выезд Екатерины II» (1906), гуашь, акварель и пастель – «Олив» (1909).
Меняется форма позирования. М.Я.Симонович-Львова отмечала, как предельно требователен был Серов к сохранению заданной позы, когда он писал с нее «Девушку, освещенную солнцем». Теперь же, когда он озабочен не столько «похожестью»,– «надо добиваться портретности в фигуре, чтобы без головы было похоже»49,– сколько «ошибкой»,– «что-то надо подчеркнуть, что-то выбросить, не договорить, а где-то и ошибиться,– без ошибки такая пакость, что глядеть тошно»50,– он стремится раскрыть, раскрепостить модель, позволяет ей «смеяться, двигаться, разговаривать – словом, держать себя непринужденно»51.
Меняется композиция, становящаяся динамичной, акцентированной, суггестивной. Не случайно, что ее оценили не критики, даже самые просвещенные (И.Э.Грабарь, С.К.Маковский), а режиссеры: С.М.Эйзенштейн, проведший образцовый «монтажный» анализ архитектоники «Ермоловой», и В.Э.Мейерхольд, заметивший: «Сначала писался просто хороший портрет, заказчик был доволен и его теща тоже»52, затем все счищалось и появлялась шокировавшая всех композиция «с вывертом».
В окружении стильной, с легкими, изящными очертаниями мебели, среди старинных картин, на фоне светлой стены возникает перед нами нечто совершенно неожиданное, изысканное и нелепое: странная женская фигура в огромной шляпе, с длинным «сигарообразным» туловищем, как бы врастающим в пол,– портрет О.К.Орловой (1911). Вновь, как в «М. А. Морозове» и «Ермоловой», но еще более разнообразно и последовательно применяется множественность точек зрения. Словно подвижной кинокамерой «снимается» модель, вывернутая в сложном разноплоскостном изломе. Укорачивается, показанная сверху, нижняя часть фигуры; закутанный в меха корпус наваливается на длинные ноги, которые по контрасту кажутся совсем худыми, едва ли могущими служить надежной опорой туловищу.
Трансформируется и эффектный поворот головы. Ракурс – чуть снизу и в упор – удлиняет, вытягивает шею, сообщает позе натянутость, вымученность. Портретируемая явно стремится посмотреть на зрителя свысока. Но это стремление, как бы прижатое общей точкой зрения – сверху, оставляет впечатление напряженного безуспешного усилия: скорее бы встать, уйти, прекратить затянувшийся сеанс-поединок. Прежде всего через композицию, реформу которой осуществил Серов, достигается редкостное нарративно-ироническое сближение – «складка» независимости объекта и эмоциоционально-семантического серовского дискурса: так было – так я увидел, так было – так должно или не должно быть.
Меняется палитра. О красном цвете Серов сказал: «с ним нужно обращаться осторожно, очень тонко – иначе грубость, диссонанс, дешевка»53. Тонкое аналитическое обращение не только с красным, но вообще с цветом при повышенной колористической активности – принцип серовской гармонии последних лет: «Акимова» и «М.С.Цетлин», «И.А.Морозов» и «Орлова». Не отходя от материальности, он, видевший, по его же словам, «всякую мелочь, каждую пору», тем не менее любой окрашенный предмет трактует обобщенно, приводит к пятну, уплощает тонально и еще более подчеркивает уплощение ясным контуром, как это было у А.Матисса, после которого «все другое делалось чем-то скучным»54, как это было в искусстве модерна, у набидов с их культом изощренной линии, декоративно-символическим пониманием цвета.
Переходя из «юсуповского» зала в «орловский», попадаешь в другой мир – более холодный, отчужденный, метафизический. Доминирует синее (по М.А.Волошину – дух, мысль, бесконечность) – «Павлова» и «Олив», «Орлова» и «Ида Рубинштейн», бесплотная плоскостность которой и контур, замыкающий фигуру в надменной неприступности, роскошь декоративных деталей и горечь интонации: «Ну что же? Устало заломлены слабые руки»,– создают оксюморонный эффект: «Смотри, ей весело грустить такой нарядно-обнаженной».
По художественному совершенству, исключительно выдержанному ощущению внутренней незащищенности («бедная Ида моя Рубинштейн»,– писал Серов) и внешней экстравагантности, по безупречному равновесию цветовых пятен и точности линейного ритма, побудившего Я.Ф.Ционглинского сравнить «ее линию с линиями гольбейновских портретов»55,– серовский холст стал высшей данью художника модерну. Индивидуальный стиль максимально сблизился со стилем времени. А вместе с супрематическим синим безвесием квадрата «Павловой» «Ида Рубинштейн» объясняет, почему А.М.Эфрос предполагал, что в дальнейшем Серов вошел бы в алхимическую лабораторию футуристов и беспредметников56.
Выполненная на холсте углем и темперой, «Рубинштейн» олицетворяет новые отношения между рисунком и живописью, возникшие в поздний период. На протяжении всей серовской жизни рисунок значил для него так много, что, хотя невозможно согласиться с мнением И.Э.Грабаря: «Серов-рисовальщик, быть может, даже сильнее Серова-живописца»57,– понять его можно. Уже в рисунках конца 1870-х годов – «В вагоне III класса», ахтырские и абрамцевские пейзажи – ощутимы свобода и уверенность в себе, которых не было в талантливых, но штудийно-подробных живописных этюдах – «Н.Я.Симонович» (1880), «В.А.Репина» (1882).
В рисовании академической (1880—1885) и послеакадемической поры врожденное чувство линии обогащается композиционной изобретательностью, фактурным шумом и приводит к замечательным художественным результатам – «Св. Себастьян» и «Прометей», «Нарцисс» и «Милосердный самаритянин», «Дон Кихот и Санчо Панса» и «Свидание Ромео и Джульетты». Порой в «культурологических» композициях мелькает «помесь Репина и Врубеля»58, но это сполна перекрывается их духовной интенсивностью, фантазией, клокочущей фактурной энергией. Жесткий портретный этикет притормаживал эти серовские порывы, но без них не появились бы потом «Одиссей и Навзикая», «Петр I», «Похищение Европы».
Начиная с 1890-х годов рисунки Серова столь совершенны, что говорить об их сравнительной ценности не имеет смысла. Вопрос вкуса: что предпочесть – текучую акварельность «Саши Серова» (1897) или властность угольных контуров в портрете К.П.Победоносцева, легкую вязь нежных, бережных штрихов в «Детях Боткиных» (1900) или трагический взлет линии в портрете И.Ю.Грюнберг (1910), графическую чистоту «Карсавиной» (1909) или тональную пластичность «Станиславского» (1911), почти абстрактную отвлеченность «натурщиц» (1908—1911) или жизненный и художественный трепет уникальной серовской анималистики.
Мир животных был отрадой для художника, чья жизнь с детских лет была погружена в одиночество, «волчье одиночество», по словам И.Э.Грабаря. Готовясь поехать в Амстердам, двадцатилетний Серов пишет: «Там прекраснейший (второй, после лондонского) зоологический сад – это меня, представь, почти столь же радует, как и чудные картины в галереях»59. Любил он всех животных: и развязных обезьян, и самодовольных ворон. Но сердце принадлежало льву и лошади. «Ох, я лошадь»,– говорил он, когда у него что-то не получалось. Н.Я.Симонович-Ефимова вспоминала: «Когда Серов рисовал по памяти скачущую под жокеем на финише лошадь, он сам, всем своим существом вселился в изображаемых; он выдыхал воздух с хрипловатым звуком «м», в ритм изображаемым порывам лошади: «м-м-м». Когда он рисовал басенного страждущего льва, он сам делался похож на него»60.
Рисунки к басням И.А.Крылова прекрасны сами по себе и лично окрашены (как пушкинская «Сказка о рыбаке и рыбке»). Можно без конца любоваться листами-вариантами «Тришкина кафтана», в которых смеховая культура воплотилась с блеском, сопоставимым с П.Гаварни и П.А.Федотовым. «Волк и журавль» – это анатомия любви-ненависти: в волчьем взгляде то угроза, туповатая злобная решимость, то страдание и глуповато-трогательное восхищение невозможной красотой журавлихи. Она возникает перед ним, как видение, грациозно изогнувшаяся (мы видим этот «выверт»-изгиб и во многих портретах 1900-х годов), не то стоящая, не то танцующая, прекрасная и недоступная.
Плоскость листа ощущается как пространство, в котором тают, растворяются и невесомые, эфемерные контуры живописных рисунков, и «проволочные» очертания калькированных «обнаженных». На первый взгляд они кажутся жесткими, агрессивными, но постепенно в их монотонном минимализме обнаруживается тайный медитативный смысл вечного возвращения-исчезновения: «Хочу добиться, чтобы в рисунке было как можно меньше карандаша»61. «Вообще скучновато на белом свете, крыши уже белы»62. «Белый лист бумаги. В своем роде “ничего”»63,– скажет В.В.Розанов об одном из серовских автопортретов.
Встреча линии и плоскости-пространства, угля и холста, рисунка и живописи становится особенно важной в те годы, когда Серов осознавал, что «можно быть величайшим художником, даже не работая красками»64. Рисунок формирует образ произведения и в таких работах, как нижегородская «Юсупова» (1902), «Дягилев» (1904), где традиционная масляная техника не стремится осваивать прямоугольник холста, довольствуясь рисуночной фрагментарностью, и в овальных пастелях на картоне – «А.К.Бенуа» (1908), «Г.Л.Гиршман» (1911), скомпонованных по принципам живописного портрета, и в огромных рисунках на холсте – «Шаляпин» (1905), «Павлова» (1909), «Рубинштейн» (1910) и, наконец, портрет П.И.Щербатовой (1911), так и не успевший стать живописью.
«Это невосполнимая потеря для искусства, что Серов не успел сделать того, что должен был сделать»; «Серов умер, не сказав своего последнего слова»; «художник не успел высказаться до конца»,– выраженная по-разному, эта мысль присутствует почти в каждой работе о Серове. Ее эмоциональная окраска понятна: подобное говорят о художниках, чье развитие отличается такой многоплановостью, что никогда не знаешь – что скрывается за очередным крутым поворотом. Серов – из этой породы: непредсказуемых. Но, постоянно повторяемая, мысль о незавершенности невольно снижает значение достигнутого. В.В.Розанову, в 1914 году, послышался голос: «Это я, Серов; к несчастью. Я «не вышел». Я хотел родиться и не родился»65. И поэтому важно сказать: Серову повезло – он завершил портрет О.К.Орловой (1911).
Начиная с устроенной С.П.Дягилевым и А.Н.Бенуа «Историко-художественной выставки русских портретов» 1905 года в Таврическом дворце, открывшей для серовской эпохи красоты ХVIII века, в его работах явственно ощутим дух ретроспективизма. Каким странным диссонансом выглядел бы овальный формат по отношению к героям портретов 1880—1890-х годов. Теперь же декоративно-стилистическим склонностям чем-то отвечает форма, изначально несущая в себе ритмические свойства: овалы портретов Е.С.Карзинкиной (1906), Е.Л.Алафузовой (1907—1908), А.К.Бенуа, Е.П.Олив, А.А.Стаховича (1911), Г.Л.Гиршман, круг – Н.К.Кусевицкой (1910). В композиции «Орловой» открыто цитируется «Портрет Е. И. Молчановой» Д.Г.Левицкого. Серов входит в систему неоклассики.
Неоклассицизм в Европе был стилистической ипостасью символизма-модерна, реакцией на экспрессионистские (в широком смысле) вызовы. В России, вырастая на общестадиальной почве модерна, будучи его частью и, одновременно, попыткой выхода из него, неоклассицизм имел более глубокие корни и основания. Обращение к «классическому классицизму» ХVIII столетия, который для русского искусства был всем,– Пуссеном и Академией, античностью и Возрождением,– стало для новой генерации художников не столько актом охранительства, антидионисийства, как это казалось А.Н.Бенуа и Л.С.Баксту66, сколько внешним поводом для воплощения романтически-символистской «тоски по несбыточному, несбывшемуся», акмеистской «тоски по мировой культуре»: «Этого нет по-русски. Но ведь это должно быть по-русски»67,– напишет О.Э.Мандельштам.
Как Возрождение воззвало к позапрошлому – античности, чтобы вырваться из непобедимого средневековья, маньеризм апеллировал к средним векам, дабы освободиться от гнета ренессансного совершенства, как романтики при помощи готических архаизмов и барокко преодолевали гипноз школы Давида, а передвижники, опираясь на Веласкеса и «реализм» ХVII века, бежали от неумолимого академизма-классицизма к «правде жизни», так и К.А.Сомов, К.С.Петров-Водкин, Л.С.Бакст, В.А.Серов в неоклассическом панцире рушили бастионы пострепинского реалистически-импрессионистского всевластия, дабы «похитить Европу», двинуться вперед, к тому, что Андрей Белый называл «грядущей цельностью», что станет и «Автопортретом» В.И.Шухаева, А.Е.Яковлева и «Черным квадратом» К. С. Малевича.
«Орлову» А.Н.Бенуа поставил рядом с «Портретом Иннокентия Х» Веласкеса – «такое же чудо живописи». Но Серов мечтал о другом. Если в своем портрете 1907 года впечатлительная Гиршман уловила близость к «Менинам», то об ее «овале» 1911 года Серов сказал: «пожалуй, к самому Рафаэлю подбираемся»68. О Тициане и Веласкесе он отзывается с восторгом, но без пиетета. Гойю называет «гениальным дилетантом». Благоговение вызывают мастера мистической формы – Микеланджело, Рафаэль, Леонардо. Похищение «Джоконды» повергает его в ужас: «Лувр без нее – не Лувр. Ужасная вещь. Терзаюсь не на шутку»69. О «Сусанне» Тинторетто он словно боится говорить: «Да, это уже не картина, это больше, чем картина»70.
«Двух станов не боец», реформатор по природе, избравший тернистую, шаг за шагом, внешне эволюционную стезю; искатель истины, оказавшийся по воле времени рядом с теми, кто не искал, а находил; художник, не желавший отличать-отлучать «природу» от «музея», соблазнявшийся зовами стиля, но пытавшийся быть поверх его барьеров; носитель всех мыслимых и немыслимых комплексов и противоречий,– Серов становится чуть понятнее, если ощутить томившую его мечту о совершенной картине – этой романтической утопии классического сознания, истерзавшей душу реального страдальца А.А.Иванова и бальзаковского мученика Френхофера. Но «Орлову» Серов все-таки написал – это больше, чем портрет.
«Не лучше ли делать так, чтобы сквозь новое сквозило хорошее старое»71,– не о «скучном соседстве» с предшественниками думал Серов, когда произносил эти слова. Как в палимпсесте, где сквозь последние слои текста пробиваются «следы» и «руины» прошлых написаний, так в призрачном свете «Орловой» мерцают оттиски культурной памяти. Ассоциативный слой прозрачен – сквозь него проступают смыслы. Какие? – трудно сказать. Работая над «Одиссеем и Навзикаей», Серов, по его загадочному признанию, хотел написать ее «не такой, как ее пишут обыкновенно, а такой, как она была на самом деле»72. «На самом деле» – это значит прорваться из унылого противопоставления реального и воображаемого к тому, что Ж.Делез назвал различием и повторением, услышать в «шуме времени» «один, все победивший звук», увидеть в реальности ее «вековые прототипы», блуждающие по эпохам символы и втиснуть, впечатать в них современность. «Это и не старо и не ново»,– обронила А.А.Ахматова. Возможно, это и есть серовские «принципы».
«Зачем же гнаться по следам того, что уже окончено?» – вопрошает хозяин великого бала в «Мастере и Маргарите». Затем, что ничего не окончилось. Просто соединились на мгновенье «Девочка с персиками» и «Орлова», музей и жизнь, озарение юности и печальное прощальное всепонимание – начала и концы серовского пути в искусстве. И, как подлинный Мастер,– «он заслужил покой».
1 Серовы, Александр Николаевич и Валентин Александрович. Воспоминания В. С. Серовой. СПб, 1914. С. 209
2 Репин И. Е. Далекое близкое. Л., 1982. С. 369
3 Там же. С. 368
4 Бенуа А. Серов. Некролог // Речь. 1911. 24 ноября
5 Белый Андрей. Памяти художника-моралиста // Русские ведомости. 1916. 24 ноября
6 Коровин К. Памяти друга // Русские ведомости. 1911. 23 ноября
7 Бенуа А. Указ. соч.
8 Грабарь И. Валентин Александрович Серов. Жизнь и творчество. М., 1914. С. 269
9 Брюсов В. Валентин Александрович Серов // Русская мысль. 1911. № 12. 2 отд. С. 120
10 Морозова М. К. В. А. Серов // Серов в воспоминаниях. Т. 2. С. 265
11 Тенишева М. К. Впечатления моей жизни. Л., 1991. С. 168
12 Грабарь И. Указ. соч. С. 160
13 Александр Бенуа размышляет… М., 1968. С. 683
14 Дурылин С. Н. Нестеров-портретист. Л.; М., 1949. С. 254
15 Эфрос А. Человек с поправкой // Среди коллекционеров. 1921. № 10. С. 1, 2
16 Серов в переписке. Т. 1. С. 426
17 Ульянов Н. П. Мои встречи. М., 1959. С. 46
18 Ортега-и-Гассет Хосе. Эстетика. Философия культуры. М., 1991. С. 247
19 Мамонтов С. В. А. Серов (Опыт характеристики) // Путь. 1911. № 2. С. 40
20 Флоренский П. А. Свящ. Столп и утверждение Истины. М., 1990. С. 147
21 Репин И. Указ соч. С. 358, 363
22 Дмитриев Вс. Валентин Серов. Пг, 1917. С. 9
23 Репин И. Указ. соч. С. 359
24 Брюсов В. Ремесло поэта. М., 1981. С. 14
25 Грабарь И. Указ. соч. С. 74
26 Ульянов Н. Воспоминания о Серове. М., 1945. С. 41
27 Грабарь И. Указ. соч. С. 82
28 Бенуа А. История русской живописи в ХIХ веке. СПб, 1902. С. 233
29 Серов в переписке. Т. 1. С. 60
30 Серов в воспоминаниях. Т. 1. С. 626
31 Антокольский М. М. По поводу книги графа Л. Н. Толстого «Об искусстве» // Искусство и художественная промышленность. 1898. Вып. 1. С. 51
32 Брюсов В. В. А. Серов // Русская мысль. 1911. № 12. С. 119
33 Бенуа А. История русской живописи. С. 235
34 Коровин К. Письма и заметки 1880 – начала 1890-х годов // Константин Коровин. Жизнь и творчество. Сост. Н. Молева. М., 1963. С. 261
35 Серов в переписке. Т. 2. С. 243
36 Грабарь И. Указ. соч. С. 126
37 Ульянов Н. П. Мои встречи. С. 46
38 Репин И. Е. Указ. соч. С. 341
39 Серова О. Воспоминания о моем отце Валентине Александровиче Серове. М.; Л., 1947. С. 41
40 Серова В. С. Как рос мой сын. Л., 1968. С. 137
41 Серов в переписке. Т. 1. С. 81
42 Сахарова Е. В. В. Д. Поленов. Письма, дневники, воспоминания. М.; Л., 1948. С. 330
43 Серов в переписке. Т. 2. С. 6, 57; В. А. Серов. Переписка. Л.; М., 1937. С. 163
44 Ульянов Н. Воспоминания о Серове. С. 52; Мои встречи. С. 49
45 Кустодиев Б. М. Письма. Статьи, заметки, интервью. Л., 1967. С. 229
46 Грабарь И. Указ. соч. С. 76
47 Серов в переписке. Т. 1. С. 103
48 Серова О. Указ. соч. С. 29
49 Там же. С. 27
50 Грабарь И. Указ. соч. С. 210
51 Воспоминания М. Курилко. Цит. по: Лактионов А., Виннер А. Заметки о технике живописи В. А. Серова // Художник. 1961. № 3. С. 40
52 Гладков А. Мейерхольд говорит // Новый мир. 1961. № 8. С. 219
53 Ульянов Н. П. Мои встречи. С. 46
54 Серов в переписке. Т. 2. С. 184
55 Радлов Н. Серов. СПб, 1914. С. 38
56 Эфрос А. Серов. Мастера разных эпох. М., 1979. С. 172
57 Грабарь И. В. А. Серов. М., 1965. С. 241
58 Слова Серова, сказанные в связи с его иллюстрациями к «Демону» и «Герою нашего времени» М. Ю. Лермонтова. Там же. С. 283
59 Грабарь И. Серов. 1965. С. 286
60 Симонович-Ефимова Н. Я. Воспоминания о В. А. Серове. Л., 1964. С. 48
61 Серов в воспоминаниях. Т. 1. С. 81
62 Письмо В. А. Серова М. С. Цетлин от 29 октября 1911 года // Серов в переписке. Т. 2. С. 315
63 Серов в переписке. Т. 2. С. 470
64 Ульянов Н. П. Мои встречи. С. 56
65 Серов в переписке. Т. 2. С. 471
66 Бенуа А. Художественные ереси // Золотое руно. 1906. № 2; Бакст Л. Пути классицизма в искусстве // Аполлон. 1909. № 3
67 Мандельштам О. Слово и культура (1921). Собр. соч. М., 1990. Т. 2. С. 169
68 Грабарь И. В. А. Серов. М., 1914. С. 199
69 Серов в переписке. Т. 2. С. 309
70 Ульянов Н. Воспоминания о В. А. Серове. С. 37
71 Там же. С. 26
72 Эрнст С. В. А. Серов. Пг, 1921. С. 67
Леняшин Владимир Алексеевич,
заведующий отделом живописи II половины XIX - начала XXI вв. Государственного Русского музея